В этом году наша страна отмечает одновременно радостный и грустный юбилей – 80-летие со дня Победы. Великая Отечественная война принесла горе утраты в каждую семью. Одна из самых черных страниц этой трагедии – блокада Ленинграда. Обезлюдевший и полуразрушенный город напоминал город-призрак. Едва услышав гул двигателя в небе, люди бежали в укрытия, матери брали детей в охапку и молились, чтобы снаряд не забрал их жизни. Страшнее свиста пуль и взрывов был только голод, с которым жители осажденного города боролись 872 дня.
Тюменка Алевтина Васильевна Пичуева встретила блокаду Ленинграда трехлетним ребенком. Историей своей семьи она поделилась с корреспондентом tmn.aif.ru.
Запах пороха
1 сентября 1941 года в ленинградских школах не было слышно голосов детей, вернувшихся с каникул. Многие здания заняли военные госпитали для раненых. А уже 8 сентября город был обескровлен – немцы разорвали автомобильные и железнодорожные коммуникации, взяв Ленинград в блокаду. Так 2,5 миллиона жителей, от старичков до малышей, стали жертвами суровых испытаний.

Вспоминая о своем детстве в осажденном городе, 87-летняя Алевтина Васильевна рассказывает:
«Поначалу было страшно, но потом привыкла. Мне было всего-то три года, когда началась война, а старшей сестре – 12 лет. Родителям предлагали выехать из Ленинграда по замерзшей Ладоге, но они отказались. Папа тогда служил в местной противовоздушной обороне, поэтому мама сказала: «Нет, умирать будем все вместе»», – делится Алевтина. – Но мы выжили. Матушка уходила работать на метеостанцию, а сестра Клава трудилась на Пролетарском заводе. Изготавливала детали для снарядов, которые отправляли на фронт. Дорога от завода до работы занимала несколько километров – передвигаться надо было осторожно и тихо, чтобы не попасть под обстрелы».
Осенью 1941 года дети встали на защиту Ленинграда наравне со взрослыми. Кто-то взял оружие, едва окончив школу, а кто-то отправился на городские предприятия, осваивать профессии станочников и сборщиков. Смена у юных работяг шла 12 часов, а то и больше. Трудились дети, встав на деревянные подставки, – высокие станки не были рассчитаны на маленьких героев.
«О развлечениях речи и не было. В гости не ходили, каждая семья замыкалась на себе. Думали только о том, как прожить день. Когда наступали сумерки, я сидела дома в ожидании близких. Сначала приходила мама, потом папа с сестрой, и я думала: «слава богу, невредимы», – делится Алевтина Васильевна.
С приходом зимы подступил и первый голод. Продовольственные склады Ленинграда немецкая авиация разбомбила за пару дней. В поисках еды люди собирали землю, пропитанную мукой и пеплом, а из ближайших водоемов выловили всю рыбу.
В рацион горожан нередко входили котлеты из книжных переплетов, студень из столярного клея и похлебка из кожаных ремней. Порой одна крошка хлеба могла спасти чью-то жизнь.
«Ели что придется. Мама с папой опилки напилят из сухих дровишек, и уже мука есть для лепешек. Так и питались, бабушка только не смогла себя пересилить и умерла от голода. В «смертное время» ели и собак, и кошек – к концу декабря 1941 в городе хвостатых не осталось. Чтобы согреться - жгли все и мебель в том числе», – рассказывает Алевтина Васильевна.
После работы небольшая семья садилась ужинать. Но в один из таких вечеров сестра Алевтины решила не есть. Порой изнурительная работа на заводе забирала последние силы даже на это. Тогда родители отправили девочку в комнату – прилечь и отдохнуть, но и на это предложение взрослые услышали: «не хочу». Ребенок словно чувствовал надвигающуюся беду.
«Внезапно началась бомбардировка города. Снаряд упал возле нашего дома, и взрывная волна выбила стекла в комнате сестры. Один из осколков пробил подушку на ее кровати», – вспоминает Алевтина Пичуева.

За все время фашисты сбросили на Ленинград 150 тысяч снарядов и 107 тысяч фугасных и зажигательных бомб. В конце лета 1943 жители города подверглись самой длительной бомбардировки за всю блокаду. Она длилась 13 часов 14 минут.
Бриллиант за крошку хлеба
По разным оценкам, блокада унесла около 1,5 миллиона жителей города. Убивало все – бомбежки, голод и бесчеловечность.
«У нас в семье еще был мамин брат – крепкий, рослый мужчина. Он, как и все работал на заводе. Однажды его обокрали – забрали все карточки на еду. Вернувшись домой, он лег отдохнуть, а вечером мы пошли его будить, но он не просыпался. Только утром следующего дня мы поняли, что он умер».
Покойных на кладбище везли самостоятельно – на саночках. Истощенные тела заворачивали во что придется. Бывало и так, что «извозчик» падал на полпути и умирал.
«Был такой эпизод. Навстречу маленькой бабушке плелся человек, а за его спиной на саночках трупы. Она его остановила и говорит: "Возьми меня с собой, я одна осталась, да и карточку у меня украли. Все равно скоро умру", но мужчина тихо произнес ей: "Иди домой, милая, береги себя"», – рассказывает Алевтина Васильевна.
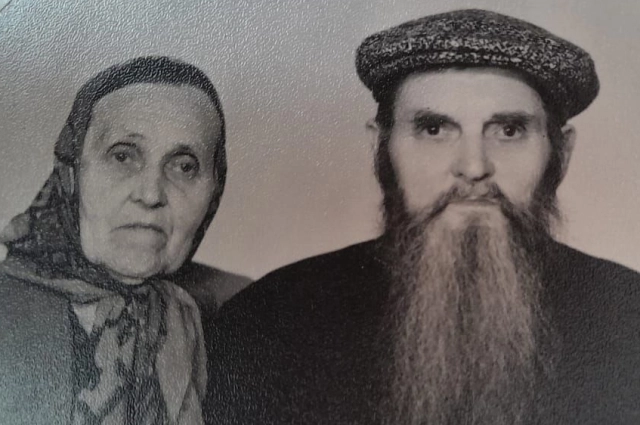
На улицах осажденного Ленинграда существовали стихийные «черные» рынки. Масштабы вольной торговли росли по мере проблем города. У проверенных «коммерсантов» изголодавшиеся обменивали драгоценности на еду. Но, бывали и те редкие случаи, когда люди шли туда с прицелом на будущее.
«За кусочек хлеба можно было купить бриллианты. Кто-то оставлял их, а кто-то обменивал на более ценные продукты. Например, консервы, – дополняет Алевтина Васильевна. – Нередко там же и обворовывали немощных. Их пинали, толкали и вытаскивали из карманов карточки, оставляя на верную смерть».
Особой опасности подвергались дети – на улице их могли похитить и съесть. Поэтому родители не оставляли своих малышей без присмотра и при первой же возможности собирали для эвакуации через ладожское озеро.
«Так на берегу оказалась группа детишек 4-5 лет. Их отправляли на большую землю. Какое-то время они противились заходить на борт, тогда один из офицеров сказал: «Дети, идите туда – там хлеб» и малыши пошли. Вот оно значение хлеба для блокадного Ленинграда», – говорит Алевтина Пичуева.
Через «Дорогу жизни» в осажденный город привозили инструменты, оборудование и продовольствие. Через нее же и вывозили – детей, женщин и боеприпасы, которые изготавливали на местных заводах.

«Среди них был Кировский (одно из крупнейших машиностроительных и металлургических предприятий СССР. – Прим. Ред.) Его окна были закрыты, в стенах сооружения находились бойницы, откуда производили артиллерийские обстрелы по врагу», – вспоминает Алевтина.
Дети на линии огня
Сменив школьную форму на военную, дети шли воевать за страну.
«Нередко на линии огня были парнишки лет 16–17, только окончившие 10 класс. Многие не знали, как держать оружие, не то что стрелять. Но оборону держали как могли. Держали они ее на Синявинских болотах», – рассказывает Пичуева.
Залитые водою торфяные поля вынуждали юных солдат строить вместо окопов насыпные открытые площадки и бревенчатые настилы на протяжении многих километров. Единственным сухим местом были Пулковские высоты. Они возвышались над болотистой равниной. С них противник имел круговой обзор, что, несомненно, давало преимущество в бою.
«Так вот, солдатики часто умирали, даже не постреляв. Поисковые отряды до сих пор находят там медали, архивные документы и даже трупы», – говорит Алевтина.
В условиях голодной зимы Новый год был поводом для редкой радости. Для детей, живших в пещерных условиях без воды, тепла и света, праздник приносил небольшие угощения.

«Через Ладогу привозили мешочки – подарки с печенюшками и фруктами. Но самым радостным воспоминанием было объявление об освобождении города. Когда в 1943 советские войска разорвали блокадное кольцо Ленинграда, люди плакали от счастья, выходили на улицу и обнимались, не зная друг друга», – вспоминает Пичуева.
Впервые Алевтина села за школьную парту уже в мирное время.
«Сестра с мамой продолжали работать на заводе, а я, отучившись в школе, поступила в торговый институт – закончила его с отличием. Тогда же комиссия по распределению на работу предложила мне сибирские города. Выбор пал на Тюмень, так в 1959 году судьба привела меня в столицу деревень», – говорит Алевтина Васильевна.
Отработав положенные три года, Алевтина планировала вернуться на малую родину – в Ленинград. Но незадолго до этого встретила будущего мужа. Случилось это 8 марта, в первый день знакомства молодой человек сделал предложение, и она согласилась.

«Мы прожили вместе 47 лет, пока он не умер в 2009 году. В 2013 вышла на пенсию, до этого 54 года работала в училище преподавателем товароведения. Сейчас мне 87 лет, я нередко хожу в бассейн – мне это нравится, и продолжаю вести лекции для школьников о блокадном Ленинграде. Энергии и позитива мне хватит еще лет на сто», – с улыбкой говорит Алевтина Васильевна.









